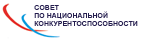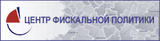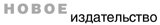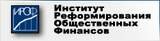Размышления о региональной стратегии России
Министерство регионального развития разработало документ со сложным названием «Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации». Само появление этого документа является очевидным шагом вперед в развитии российской региональной политики. Разговоры о необходимости четко выверенной региональной стратегии для России ведутся уже много лет. Стратегия, несомненно, нужна государству с огромной территорией и огромными территориальными контрастами. В России региональная стратегия может и должна быть одним из основополагающих документов, определяющих развитие и перспективы нашей государственности; документом уровня внешнеполитической доктрины. В то же время столь важный документ, от которого в буквальном смысле зависит судьба каждой территории и, в конечном счете, каждого россиянина, пока не получил широкой огласки, не прошел необходимого обсуждения. Ясно, что принимать келейно, а потом навязывать регионам в качестве очередной «реформы сверху» региональную стратегию нельзя. Поэтому Фонд развития информационной политики и Информационное агентство «Росбалт» приняли решение провести экспертный опрос и выяснить отношение своих региональных экспертов, партнеров, в т.ч. чиновников из региональных администраций к этому документу. На наши вопросы ответили 32 эксперта, с ответом каждого из которых вы можете ознакомиться на сайте.
Пока региональная стратегия не принята и имеет статус концепции, следует задуматься над ее «подводными камнями». Ясно, что любая региональная стратегия вызовет горячие споры и, думается, что авторы данной концепции к этому были готовы изначально. Прежде всего, вызывает вопросы и наводит на размышления идея изменить весь подход государства к вопросам территориального развития.
В России доминирует перераспределительная модель, главный смысл которой состоит в том, что государство концентрирует финансовые ресурсы на общенациональном уровне, чтобы затем перенаправить их в более слабые регионы с целью сглаживания межрегиональных контрастов. Модель понятная по смыслу, полезная и политически необходимая для балансировки региональных социально-экономических ситуаций. Она имеет свои недостатки, поскольку сама по себе не создает стимулы для развития территорий (и, понятно, вызывает недовольство экономически сильных регионов, вынужденных «кормить» своих «бедных братьев»). Модель эта - скорее «левая» по своему политическому звучанию, несмотря на то, что ее реализацией занимаются министры, считающиеся либералами. Пока эту модель, несмотря на критику, никто не отменял, поскольку она представляет собой очень важный политический механизм, позволяющий урегулировать социально-экономические контрасты и, следовательно, сгладить политические противоречия в России. Как известно, федеральный бюджет на 2006 год предусматривает значительный рост трансфертов, финансирование федеральных целевых программ, предназначенных для регионов, в т.ч. направление средств в такие политически важные регионы, как Чечня, Татарстан, Башкортостан.
Авторы стратегии предлагают демонтировать перераспределительную модель (она отчасти заменяется компенсационной моделью). Суть стратегии - в поляризованном (сфокусированном) развитии российских регионов и определении регионов-«локомотивов», которые призваны составить опорный каркас российской территории. При этом речь идет не просто о констатации наличествующего опорного каркаса, но о государственной поддержке «локомотивов». Государственная региональная политика понимается как направленное формирование опорного каркаса, его территориальное планирование. Это и меняет весь подход в корне: ставка делается на стимулирование более сильных регионов, получающих официально признанный статус локомотивов и даже особый (более высокий – какой же еще) политический статус. Судьба остальных территорий при этом толком не раскрывается.
Политически такую модель можно признать либеральной. Она предполагает отбор уже сложившихся сильных, перспективных территорий для целей дальнейшего, ускоренного развития - с инвестициями, инновациями, глобальной конкурентоспособностью и прочими радостями жизни. Напротив, момент помощи бедным, сглаживания различий, достижения большей территориальной справедливости сглаживается и почти исчезает.
В сущности, мы присутствуем при начале идеологического спора о путях развития России как территории, о борьбе либеральной и государственнической моделей. Впервые сторонники либеральной модели громко заявили о себе. Хотя либерализм – типично наш, постсоветский. Как водится в России, либеральная реформа рождается в высоких кабинетах, чтобы затем методами государственного принуждения (территориального планирования) распространяться по стране. Особенно забавляет предлагаемый закон «О пространственном развитии Российской Федерации» - типично постсоветский сплав либерализма с неизжитой командно-административной системой; почему-то вспоминается знаменитый лозунг «Течет вода Кубань-реки, куда велят большевики». Настораживает и количество бесконечно плодящейся бюрократии, которая будет заниматься обслуживанием новой стратегии: предполагается создание множества новых государственных структур, которые за бюджетные деньги начнут планировать нашу территорию и осуществлять ее мониторинг. На самом деле уже само существование Минрегиона вызывает вопросы, т.к. оно ведет к дублированию функций: ведь социально-экономические проблемы одни и те же, только Минрегион выходит на них с одной стороны, а «экономические» министерства – с другой.
Первой проблемой является статус и форма реализации региональной стратегии. Пока самым очевидным выглядит ведомственный интерес Министерства регионального развития. Дело не только в том, что это министерство создано недавно и ищет свое место под солнцем. До сих пор все попытки создания специализированных ведомств, занимающихся вопросами региональной политики, в России терпели крах по одной простой причине – эти ведомства не распоряжались серьезными деньгами. Поэтому не состоялось, и было расформировано Министерство региональной политики в правительстве Е.Примакова, которое возглавлял В.Кирпичников. На долю «региональных» и «национальных» министерств и ведомств традиционно оставалась разработка всяческих концепций, проведение «круглых столов» и прочих ни к чему не обязывающих мероприятий. Регионам это, может, и было приятно, но за деньгами они все равно шли к президенту, премьеру, вице-премьерам, в Минфин или МЭРТ.
Новый Минрегион усвоил эти уроки, он хочет не просто писать концепции, но распоряжаться реальными деньгами и иметь реальную власть. Предложенная им стратегия подгоняется именно под эти задачи. Если «локомотивы» будут определяться на конкурсной основе, то это власть. Если им будут выделяться конкретные средства, то вот они и деньги. Отсюда риск, что Минрегион благодаря такой стратегии станет очередной чиновничьей кормушкой. С бедного региона много не возьмешь, а стратегия поляризованного развития позволяет вступить в «особые отношения» с богатенькими субъектами федерации. И регионам не надо доказывать, как в случае с Инвестиционным фондом, что их проекты имеют особую сложность и особое значение для государства. Все гораздо проще: если ты сильный, если у тебя есть природные ресурсы и выгодное географическое положение, то тебе может открыться зеленая улица.
Но логично и то, что столь откровенный ведомственный интерес Минрегиона повлечет за собой традиционную межведомственную склоку. Те же Минфин и МЭРТ быстро почувствуют, что у них отбирают кусок. Свою роль сыграют межгрупповые, клановые противоречия: известно, что В.Яковлев с одной стороны, Г.Греф и А.Кудрин с другой – относятся к разным лагерям и не питают друг к другу симпатий. Вряд ли В.Яковлева можно назвать настолько влиятельной фигурой, которая способна пролоббировать эту стратегию и все связанные с ней явные и тайные замыслы. Вспомним, с каким огромным трудом принималось законодательство об особых экономических зонах (которое, кстати, не увязано с предложенной стратегией). И все потому, что действия Г.Грефа, лоббиста этого закона, жестко блокировались позицией Минфина. Только когда Г.Греф сумел убедить президента в начале этого года, процесс сдвинулся с мертвой точки и развивается сейчас на наших глазах – но все равно медленно и неровно. Минрегион предлагает еще более грандиозный проект по сравнению с небольшой россыпью особых экономических зон. По сути, он дает свой ответ на извечный вопрос, как нам обустроить Россию.
Сделаем первый вывод. Региональная стратегия России не может быть узковедомственным проектом, не прошедшим полный цикл согласований. Причем не только в правительстве и не только в президентской администрации. Региональные власти ждут от центра и стратегию, и план конкретных действий. Необходимо согласование общенациональной стратегии с уже существующими и реализуемыми в регионах долгосрочными социально-экономическими программами.
Наконец, если мы развиваем рыночную экономику, то нельзя не учитывать интересы бизнеса. Ведь бизнес, российский и зарубежный, инвестирует в регионы по своим законам и правилам, у него есть свои инвестиционные программы, он серьезным образом меняет социально-экономическую карту России. Без диалога государства и бизнеса реализация любой региональной стратегии будет утопией.
Итак, было бы правильнее, если бы региональная стратегия России стала одним из крупных национальных проектов, о которых сегодня говорит В.Путин.
Вторая, содержательная проблема связана с возможностями и ограничителями применения в нынешней России «либерального» подхода в региональной политике, выраженного в виде стратегии поляризованного развития.
Закономерно, что либеральный подход ведет к росту расслоения. Он может быть хорош там, где нижние слои находятся на приемлемом уровне. Но там, где они находятся на грани или за гранью выживания, он может быть опасен. С региональной поляризацией в России и без стратегии Минрегиона нет никаких проблем: поляризация существует, она вопиющая. Если расслоение будет усиливаться и далее, это приведет к распаду страны. В каждом государстве есть своя мера внутренних социальных контрастов, переход определенного рубежа означает конец государства. Если государство будет стимулировать сильные регионы, оно спровоцирует бунт слабых. Такая однобокая региональная стратегия может пониматься теоретиками как тяжелый, но неизбежный путь к «спасению России» - за счет выживания тех немногих, кто еще в состоянии выжить. Признаем: этот подход возможен, у него есть и будут сторонники. Но он может стать очередным опасным примером кабинетной теории, которая в случае реализации на практике приведет к распаду России.
Есть важное отличие планирования городской застройки от планирования государственной территории (а подход городских планировщиков отчетливо виден в предложении создать Генеральную схему пространственного развития Российской Федерации, провести функциональное зонирование России). В регионах живут люди, у этих людей есть свои интересы. При поляризованном подходе будут развиваться центры, но не будут развиваться территории. Центры замкнутся в себе и своем относительном благополучии, отгородятся от внешнего мира, а территория, земля российская станет никому не нужной пустыней. Если при этом пострадают интересы миллионов людей, то ни о какой политической стабильности в России говорить не придется.
Ускоренная урбанизация 20 века и так уже привела к неразумно высокой концентрации населения в городах. Поляризованное развитие усиливает эту тенденцию. Значит, продолжится опустынивание российской территории, учитывая тенденцию к снижению численности россиян, к вымиранию глубинки. Россия поделится на большие города, где сосредоточится ее основное население (и еще вопрос, как развивать инфраструктуру этих городов, которые, как Москва, не справляются и не готовы к наплыву приезжих), и дикую, никем не заселенную и не освоенную степь (сельское хозяйство вряд ли окажется среди приоритетов проектировщиков). Вместо более сбалансированного развития всей территории, которое идет во многих западных странах, мы получим вторую волну урбанизации со всеми ее побочными проблемами, останемся в прошлом веке. Стратегия это предполагает, поскольку речь там идет о повышении миграционной мобильности населения, оказавшегося за пределами регионов-лидеров. На ум приходит советская история с ликвидацией неперспективных деревень. Только сейчас речь идет уже не о деревнях, которые еще можно было переселить в центральные усадьбы колхозов и совхозов, а о целых регионах, где живут миллионы людей.
Стратегия поляризованного развития, несомненно, сочетается с попытками укрупнения регионов. Она подталкивает экономически слабые регионы: хватит, мол, думать, объединяйтесь с богатыми регионами-локомотивами, может тогда вам чего и перепадет, а иначе ни на что не рассчитывайте и живите, как сможете.
Несправедливо, если полюсами роста окажутся регионы, выигравшие за счет природных ресурсов и регистрации головных офисов крупных компаний. На Западе сырьевые регионы совсем не обязательно являются самыми благополучными и уж совсем не считаются полюсами роста. Строго говоря, в России их нельзя признавать экономически развитыми и тем более современными, они просто богатые - за счет самого примитивного индустриального развития. Ситуативно, в нынешней российской экономике торгово-посредническая Москва и сырьевые районы действительно выиграли, но эта победа никак не способствует развитию всей территории. Заметим, не мертвой зоны, а «живой» пока еще территории, где есть квалифицированная рабочая сила, выгодное географическое положение, имеется если не сырье, то, например, рекреационные ресурсы. Можно рассуждать об опорных регионах и радоваться их наличию, а можно - о вопиющих диспропорциях и территориальной несправедливости: все зависит от того, как смотреть на одну и ту же проблему. При нынешней политике периферия рассчитывает максимум на поддержку, но никак не на целевые государственные инвестиции в ее развитие. Новые инициативы нацелены на ее консервацию, санацию, превращение в слабо заселенное (и этим безопасное – избирателей там все равно мало) пространство самозанятости и натурального хозяйства. В реальности, если мы говорим о подлинной модернизации России, требуется гораздо более тонкая и точная проработка перспектив у буквально каждого уголка российской территории. Это и может называться подлинно государственным подходом, направленным на сбережение всей нашей территории. Он нужен на уровне конкретных мер по реализации стратегии (сама стратегия, кстати, как известно из канонов, в принципе не может быть столь объемным документом).
Регионы-локомотивы, безусловно, нужны. На самом деле они есть в России и без всякой стратегии. Их не надо специально создавать, надо решать, что с ними делать. С этой точки зрения стратегия совершенно права. В частности в том, что регион-лидер – это не только «дойная корова», но и полюс роста, опорный регион, или, как говорили раньше, опорный край державы. Надо только помнить главное: если мы хотим сохранить Россию как единое государство, локомотивы должны тянуть весь поезд, все его вагоны. Будет нелепо и опасно, если локомотивы начнут кататься в свое удовольствие, не реагируя на призывы о помощи со стороны тех, кто не попал в список приоритетов.
Кстати, авторы стратегии должны понимать, что даже в сильных регионах не любят, когда кто-то в центре расставляет территориальные приоритеты: там люди реально живут и работают на территории, они опасаются роста диспропорций и его политических последствий. И такие опасения есть везде: ведь по-настоящему богатых регионов в России нет! Поэтому предложенный подход вызывает там как минимум настороженность, и даже предполагаемые «локомотивы» не демонстрируют восторг.
Тревогу внушает судьба «последнего вагона». О нем предметно никто сейчас не думает, от него отмахиваются, как от чумы. Снят с рассмотрения в Госдуме закон «Об основах федеральной поддержки депрессивных территорий Российской Федерации»: правительство в свое время не захотело его поддержать, отрицая любые формы особых отношений между центром и регионами того или иного типа. Юридически депрессивных территорий в России нет, а значит, нет и проблемы, значит, никто на государственном уровне этими территориями не занимается и заниматься не хочет. Все знают: простой механизм распределения трансфертов по бедным регионам не стимулирует развитие отсталых территорий. Для развития нужны целевые деньги, но стратегически выверенной государственной политики в этом направлении до сих пор нет.
На самом деле отсталым и депрессивным регионам в России нужна своя солидная часть региональной стратегии, не меньшая, чем та, которая посвящена опорным регионам. Автоматически инновационный рост не передастся от опорных регионов к соседним регионам-аутсайдерам: опорные регионы не настолько богаты, они будут работать только на себя, и им понадобится очень много времени, чтобы насытиться своим преимуществом. Механистический диффузионный подход, просматривающийся в стратегии, может оказаться далеким от реальной жизни. Когда мы переходили к рынку, теоретики тоже внушали, что все станут жить богаче от одного только изменения системы, но вместо этого мы получили беспрецедентное социальное расслоение; богатые сделали все, чтобы поменьше делиться с бедными.
Не будем забывать, что в России есть еще одна особая проблема – контраст между Москвой и остальной страной. Этот контраст огромен, очевиден и несправедлив. На самом деле он уже невыгоден самой Москве, которая превращается в не подходящий для нормальной человеческой жизни, перегруженный всем и вся мегаполис. Этот контраст создает серьезную политическую проблему – конфликт между столицей и провинцией, один из главных расколов в российской политике и социокультурной сфере. Поэтому финансово-экономическая поддержка Москвы, если вдруг ее зачислить в локомотивы, – это нонсенс, и, конечно, ни одна разумная региональная стратегия России не должна предусматривать такие меры. Напротив, стратегической целью должна стать разгрузка Москвы, перераспределение финансов, собственности, власти в пользу других городов. Региональная стратегия должна вынести Москву за скобки, определив приоритеты именно для провинциальной России.
Подведем итоги. Главное: России нужна более сбалансированная региональная стратегия, действительно достойная статуса национального проекта. Предложенная «концепция стратегии» - это еще не полноценная стратегия, это попытка определить порядок работы государства с экономически сильными регионами с целью не загубить их потенциал и обеспечить им действительно достойный уровень жизни. В таком виде она воспринимается вполне нормально и уместно, но тогда не должно быть претензий на всеобъемлющую стратегию и смену вех.
Поддержка сильных регионов в логике поляризованного развития – это хороший и нужный ход, но только при немного другой постановке задачи. Российская региональная стратегия обязательно должна быть связана с процессами глобализации и развития мировой экономики, участием страны в целом и ее регионов в этих процессах. Если наша страна действительно становится частью единого мирового пространства, то ее ключевые центры (далеко не одна только столица), призваны стать современными центрами глобального масштаба. Москва, Санкт-Петербург, города с населением свыше одного миллиона жителей или около того, некоторые менее крупные, но выгодно расположенные центры (например, на Дальнем Востоке, черноморском побережье) имеют шансы, чтобы в будущем стать «мировыми городами». Тогда, кстати, они на деле, а не на словах станут постиндустриальными центрами. В них когда-нибудь будут и новая структура экономики и занятости, и интенсивные связи с внешним миром. Сегодня в России нет ни одного центра глобального уровня, не является им и Москва, занимающаяся имитациями и внешними эффектами.
Такой национальный проект назревает, и интеллектуальных сил в России для этого пока достаточно. В стратегии он намечен. Его более глубокая проработка требует увязки с внешней политикой и адекватного встраивания России в мировую экономику - не в роли сырьевого придатка. В сущности, проект глобализации крупных городов – это часть никем пока не написанной стратегии по социально-экономической модернизации России. И конкретные государственные меры, направленные на превращение крупных российских городов в глобальные центры, космополисы, будут означать прежде всего создание необходимых условий – внешнеполитических, институциональных, инфраструктурных. Это - стратегия несколько иного рода, но, безусловно, могущая стать частью более продуманной и масштабной, по-хорошему амбициозной региональной стратегии России.
Если мы не хотим разрушить Россию, региональная стратегия должна быть сбалансированной, учитывающей все региональные интересы. В самом общем виде ее можно поделить на четыре уровня.
1. Москва как столица и город, не нуждающийся в особой поддержке, если серьезно, на государственном уровне поставить задачу преодоления вопиющего и несправедливого разрыва между столицей и провинцией. Это не отменяет необходимость продвижения интересов Москвы как глобального центра, но не единственного в России.
2. Другие крупные города, которые, как и Москва (но при специальной поддержке, учитывая неравенство стартовых условий в сравнении с Москвой), должны быть ориентированы на встраивание в единое мировое пространство в качестве его достойных центров.
3. Разнообразные «средние» города и районы - локомотивы, точки и полюса роста, наукограды-технополисы, которые способны вносить существенный вклад в развитие российской экономики при условии стартовой (именно стартовой!) государственной поддержки. Для них лучше всего и подходит логика поляризованного развития. Государственная поддержка в зависимости от стартовых условий в каждом конкретном случае может варьировать от целевого финансирования до создания особых институциональных условий (в виде налоговых режимов и т.п.). Конечной стратегической целью, как и в предыдущих случаях, является постепенное встраивание этих локомотивов в современную мировую экономику.
4. Периферии, депрессивные и отсталые регионы, каждый из которых должен получить свою перспективу, найти нишу в российском пространстве, чтобы не просто выжить, а получить стимул для развития, для прорыва из нищеты. Поэтому в региональной стратегии необходима мощная программа мер, направленных на устойчивое развитие бедных, отстающих территорий. Не следует забывать и про особое внимание, которого требуют проблемные территории Крайнего Севера. Государственный подход означает пристальное внимание буквально к каждому кусочку территории, потому что это не просто функциональные зоны, это живые люди. Его не обязательно вырабатывать целиком и полностью в центре, здесь требуется совместная работа федеральных и региональных властей.
Кроме того, есть регионы, имеющие стратегическое значение для России. К их числу относятся некоторые национальные республики, Калининградская область, ключевые приграничные и приморские регионы. Их можно поделить между приведенными выше группами. Но они неизбежно потребуют особого и отдельного внимания по причинам политического, даже геополитического характера. Их наличие и интересы также должны быть учтены в стратегии. Региональная стратегия должна в равной мере учитывать проблемы социально-экономического развития и проблемы национальной безопасности. Это значит также, что в стратегии должны быть учтены и внешняя, и национальная политика Российского государства (есть ли они, вопрос отдельный). Да и политика в сфере образования тоже, если мы хотим реальной и всеобщей грамотности, без которой не проведешь модернизацию.
Региональная стратегия, способна увязать все интересы, не столь уж утопична. Да, Россия – страна большая и разнообразная. И здесь неприменим единый подход к территориальному развитию, поскольку он обязательно будет ущемлять те или иные региональные интересы. Как перераспределительная модель вызывает недовольство основных доноров, так и модель поляризованного развития приведет к возмущению отсталых регионов. Смысл сбалансированной региональной стратегии состоит в поиске разумного сочетания государственной финансовой поддержки (причем, желательно имеющей целевой, а не просто выравнивающий характер) и создания институциональных условий, обеспечивающих приток инвестиций и модернизацию экономики – вплоть до встраивания 10-15 наиболее подготовленных центров в мировое пространство. Первый метод пока больше подойдет отсталым территориям – при условии возрастающего целевого характера финансовой помощи. Второй, видимо, ближе нынешним и потенциальным «полюсам роста», где есть очевидные предпосылки для развития, и нужно преодолеть силу трения при старте.
Любая стратегия по определению предполагает определение приоритетов. Думается, что для региональной стратегии приоритеты – это не столько список «хороших» территорий, сколько общенациональная цель, которой подчинено развитие всей территории страны. В региональной стратегии нужны гибкость, поле для маневра частными подходами и технологиями при четком понимании главных целей – развития всей страны на путях модернизации, а значит, вывода ее крупных центров на мировой уровень и преодоления отсталости на самой заштатной периферии. Иными словами, синхронного перехода каждого уровня поляризованной системы на более высокую ступеньку. Такая стратегия, где у каждой территории будет свое чувство перспективы, свое видение вертикальной мобильности, позволит сохранить страну.

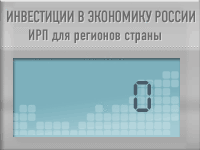
Наш адрес:
- Россия, 105066, Москва,
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, бизнес-центр «Новь», корпус 20 - e-mail:
- Телефон: (495) 987-3755,
(495) 987-3756,
Факс: (495) 987-3759,
(495) 987-3758 - Схема проезда



 ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ