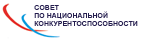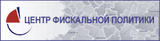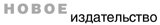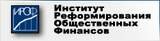Эпитафия российскому федерализму
В декабре в 11 регионах России прошли губернаторские выборы. Где-то они завершились уже в первом туре, где-то предстоит второй тур. Читателю может показаться, что все выглядит, как и прежде: страна остается федеративным государством, региональные выборы стали привычной и отлаженной практикой. Однако в тот же день 7 декабря произошло еще одно важное событие – референдум об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого АО. Скоро в России станет на один субъект федерации меньше. Казалось бы мелочь, но она наводит на размышления. «Партия власти» практически получила в Госдуме конституционное большинство, а по вопросам региональной политики уж точно его имеет, учитывая унитаристские наклонности ЛДПР. Это позволяет запустить процесс переустройства страны в сторону дальнейшего укрепления позиций центра, резкого сокращения числа административных единиц и свертывания самоуправления на местах.
Мы привыкли называть Россию федерацией, не задумываясь и порой не зная, что это означает. Для высокопоставленных чиновников понятия «федерация», «децентрализация», «местное самоуправление» стали ежедневно произносимыми общими местами, за которыми они давно не видят никакого особого смысла. Народ наш, скорее всего, вообще не знает, что означает слово «федерация» в названии государства. По крайней мере нет никаких глубоких социологических исследований, которые давали бы ответ на вопрос, знает ли население России о принципах федерализма, осознает ли страну именно как федеративное государство и т.п. Это неудивительно, поскольку внедрение федерализма, как и все реформы, шло у нас сверху.
Федерализм – это не просто политическая модель, это – определенная политическая культура, сложившаяся, как правило, исторически. У нас федерализм появился в особой форме, он был создан в советское время фактически как рамка для института национально-территориальной автономии. Поэтому, кстати, национальные республики привыкли считать, что федерализм служит их интересам, а центр думает, что федерализм – это кость, брошенная национальным окраинам. Автономия же простых русских регионов до сих пор воспринимается как некое архитектурное излишество (не заслужили, мол).
Логика российских реформ такова, что все, что даруется сверху, рано или поздно, целиком или частично изымается в процессе последующей контрреформы. Народ при этом безмолвствует, элиты демонстрируют покорность, интеллигенция протестует с нулевым эффектом. Все последние годы мы наблюдаем усиление федерального центра и свертывание региональной автономии. Муниципальная реформа тоже не имеет ничего общего с развитием структур гражданского общества. Ее задача – включение местной власти в единую систему бюрократического управления. Причем, раз это нижний этаж, то это значит, что он самый слабый и самый зависимый. Мы живем не по законам демократии с ее «корнями травы», а по законам физики: теплый воздух поднимается кверху, а внизу холодно и неуютно. Этим вызван и психологический комплекс региональной элиты: центр – плохой, но туда очень хочется попасть, потому что там хорошо.
Поддержит ли региональная элита отказ от федерализма? Как ни парадоксально, ответ на этот вопрос уже стал положительным. Достаточно было одному всем известному человеку показать, что он и есть в доме хозяин. И наш федерализм, и все властные элиты вышли из советской «шинели». Российская бюрократия не мыслит категориями (и уж тем более идеалами) федерализма. Зато она вся пропитана сознанием властной иерархии: в центре большие начальники, в регионах – средние, на местном уровне – маленькие. И что бы там не говорила теория (и кто ее вообще читал?), одни начальники подчинены другим, все зависят от вышестоящего руководства. И именно так, кстати, воспринимает ситуацию простой народ: есть губернаторы, есть мэры, а чем они отличаются, какова их компетенция, никто не ведает.
Чинопочитание прекрасным образом сочетается с финансовой зависимостью. Все последние годы центр проводит сознательную политику централизации финансов. Региональные бюджеты давно не позволяют губернаторам «разойтись»: все находятся в положении просителей, и большинство не в состоянии проводить инвестиционную политику. Только что запущенная муниципальная реформа не дает местному уровню власти никаких финансовых гарантий самостоятельности. Слабое, зависимое большинство в региональной элите всегда с готовностью поддержит любые начинания центра, даже если они объективно противоречат их интересам. Ведь известно, что некоторые губернаторы сами выступают и за отказ от губернаторских выборов, и за уменьшение числа регионов. Есть даже закономерность: хочет губернатор выслужиться в глазах центра, или нужно ему спасать свою шкуру, сразу же начинает предлагать отказ от выборов или какое-нибудь радикальное укрупнение.
Последние парламентские выборы стали моментом истины. Прежде всего, они показали, что «партия власти» способна на реализацию политических целей, которые и не снились аналитикам. Они поставили ребром и вопрос о самостоятельности наших регионов. Действительно, можно ли считать федеративным государство, в котором всенародно избранные губернаторы отчитываются перед Кремлем о процентах голосов, полученных «Единой России» и количестве одномандатных округов, завоеванных «партией власти»? Ведь кто и за что голосовал 7 декабря, никого не интересует: важен официальный результат как политическая отчетность губернатора перед центром. Никто не заставлял губернаторов фальсифицировать результаты выборов: они делали это сугубо добровольно, поскольку знали, что судить их будут по этому результату. Федеративное ли государство, где в принципе невозможен губернатор-оппозиционер, член другой партии? Здесь типичен пример «красных» губернаторов, которые изменили свою окраску до полной неузнаваемости. У всех наших элит осталась только одна идеология – центризма, т.е. попросту говоря – теплого кресла.
Сейчас наступает критический момент, когда центр в состоянии воплотить любую централизаторскую фантазию. Народ на улицы не выйдет: ему пока еще искренне хочется выбирать губернаторов, но он все больше устает от выборов вообще. Госдума будет предельно лояльной, а избранные от регионов депутаты будут изо всех сил бороться за благосклонность Кремля, зная, что кремлевские хлеба сытнее провинциальных. Мечтая о третьем сроке, многие губернаторы тоже готовы буквально на все. Кстати, вот она маленькая сенсация в Брянской области – поражение коммунистов в обоих одномандатных округах, где они проиграли объективно крайне слабым представителям «Единой России». Почему так случилось? Да просто потому, что бывший левый радикал Юрий Лодкин очень хочет поработать еще один срок.
Если раньше, во времена ельцинской вольницы мы любили говорить о «крутизне» региональных «баронов», то теперь наблюдаем, как они ежедневно приносят в жертву свои политические интересы и амбиции ради благосклонности Кремля. Раньше работала формула, по которой губернатор «воровал и делился», т.е. делал что-то и для региона, благо и выборы в регионах были более конкурентными, не предопределенными заранее. Теперь воровать не велит прокуратура, а делиться нечем. Региональным лидерам остается лишь отслеживать дуновения столичного ветерка и в инициативном порядке бегать впереди кремлевского паровоза.
Единственным серьезным препятствием к свертыванию федерализма в России является институт национальной автономии, то, с чего собственно и начинался наш федерализм. Пример Коми-Пермяцкого АО здесь очень важен как прецедент. Ведь он тоже был национальной автономией, причем с весьма высокой долей титульного населения. Теперь этот округ, сохранив свои границы, превратился во внутреннюю автономию Пермского края. В принципе точно также могут поступить и с национальными республиками. Разве что Татарстан и Башкирия достаточно велики и имеют шанс остаться на российской карте. Хотя, конечно, трудно представить, окажутся ли кавказские народы такими же покладистыми как коми-пермяки, которые за газопровод и автодорогу с мостом отказались от национальной автономии и прямых отношений с центром. Автономии можно попробовать упаковать внутри укрупненных административных образований, хотя это очень опасный процесс, чреватый ростом национализма.
По-прежнему актуален вопрос, нужен ли федерализм России. Вопрос этот спорный. У каждого из федеративных государств своя история, своя политическая культура, и единого рецепта по «обустройству страны» в мире нет. В унитаризме нет ничего плохого, если он, конечно, сочетается с развитой демократией и местным самоуправлением. Перефразируя классиков, федерализм – не догма… Настораживает другое, а именно вопиющий дисбаланс в отношениях между центром и регионами, который в конечном итоге губителен для провинции. Регионы не могут нормально развиваться в условиях несвободы и бюрократического прессинга, дошедшего уже до неприличия. И никто сейчас не ставит вопрос о гарантиях регионального развития, зато все под надзором компетентных органов несут свои кирпичики для укрепления кремлевских стен, возвышающихся над унылой заснеженной равниной. Унитаризм в условиях объективно бедного государства, где плохо воспитанные элиты яростно борются за куски постного пирога, ставит регионы на грань выживания.
Опыт российской истории показывает, что у нас никогда не было устойчивой модели отношений между центром и регионами. Государство то закручивало гайки, то давало волю регионам, и не могло стабилизировать ситуацию хотя бы на 50-100 лет. Главная причина, наверное, связана с размерами российской территории. Раз пространство такое большое, центру хочется держать его под жестким контролем и контролировать его природные богатства. Но контролировать все и вся на такой территории невозможно физически. Да и регионам хочется большей свободы для решения своих проблем. Вот и начинаются бесконечные колебания маятника, которые мы наблюдаем и сейчас.
8 декабря мы проснулись в стране с однопартийной системой. Через несколько лет мы, может быть, проснемся в Российской демократической (?) республике, забыв, что она еще вчера называлась федерацией. Может быть это только антиутопия, но почти никаких препятствий для ее реализации сейчас нет. А на следующий день после ее победы все начнется сначала: появятся силы, доказывающие выгоды децентрализации, появится новое общественное мнение. Есть и потенциальный политический субъект - региональный бизнес, который сложился самостоятельно, который умеет считать деньги и не привык к бюрократической покорности. Не исключено, что потом, на новом историческом витке в России появится и новый федерализм, осознанный всеми как необходимость для большого, сложного и, надеемся, уже не столь архаичного государства, как нынешняя Россия.

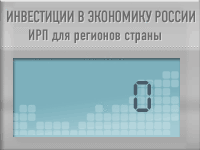
Наш адрес:
- Россия, 105066, Москва,
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, бизнес-центр «Новь», корпус 20 - e-mail:
- Телефон: (495) 987-3755,
(495) 987-3756,
Факс: (495) 987-3759,
(495) 987-3758 - Схема проезда



 ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ