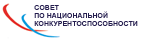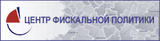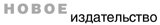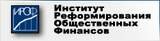Сравнительный анализ тенденций регионального развития России и Украины
Полис, 1999, №6, с. 49-61.
Как в России, так и в Украине региональный фактор традиционно оказывает очень большое влияние на политические процессы. В Украине его значимость обусловлена историко-культурными различиями внутри украинского этноса. Специфика регионального фактора в Украине обусловлена относительной компактностью страны, когда политическую элиту нельзя четко разделить на киевскую и региональную, и каждый представитель центральной элиты одновременно выступает в роли регионального лоббиста. В России отправной точкой стала многонациональность государства, которая стимулировала развитие страны на принципах федерализма, разделения полномочий между центром и регионами: современный российский федерализм возник как реакция на процесс стихийной суверенизации в национальных республиках. Свою, но иную чем в Украине роль сыграли размеры страны, которые обусловили относительную слабость централизованного контроля и свободу действий региональных элит: «до Бога высоко, до царя далеко». Здесь в отличие от Украины водораздел между центральной и региональной элитой выглядит более очевидным.
Конечно, с формальной точки зрения отношения «центр — регионы» в России и Украине строятся на принципиально разных основаниях.
Во-первых, различаются сами принципы государственного строительства. Россия является федеративным государством и провозглашает федерализм в качестве своей государственной доктрины. Украина — унитарное государство, хотя имеет в своем составе одну автономию — Крым. В Украине считают, что только унитарная государственность может способствовать сохранению территориальной целостности молодого государства, и возводят унитаризм в ранг национальной идеи. Это имеет одно немаловажное следствие: в России региональные лидеры (главы исполнительной власти регионов) избираются народом, в Украине назначаются президентом.
Во-вторых, отличается специфика финансово-бюджетных отношений между центром и регионами. В России используется практика бюджетного федерализма, отрабатываются схемы раздела налоговых поступлений между центром и регионами и поддержки экономически слабых субъектов федерации из федерального бюджета через дотации. В Украине этого нет, экономическая система централизована.
В-третьих, региональный политический процесс в обеих странах не был полностью идентичен, хотя наблюдается ряд похожих моментов. И в России, и в Украине отношения между центром и регионами складывались в результате постепенного реформирования той политической системы, которая была унаследована от перестроечного Советского Союза. На региональном уровне ключевыми властными органами являлись обком партии (ликвидированный в 1991 г.), областной совет, влияние которого выросло после выборов 1990 г., и исполком областного совета, ставший прототипом региональной исполнительной власти.
После распада Советского Союза, в 1992-93 гг. тенденции в региональной политике в российских и украинских областях были похожими. Вводится должность главы администрации (в Украине — представителя президента), который возглавляет региональную исполнительную власть. Разгораются конфликты между губернаторами и областными советами, не утратившими своих властных амбиций и полномочий. Различия заключались в том, что в составе России существовало множество национальных автономий (в ранге республик), которые, начиная с 1991 г., принялись явочным порядком формировать собственные режимы выборной власти. Фактически страна разделилась на «домен» федеральной исполнительной власти — края и области, которыми управляли назначенные из Москвы губернаторы, и автономные образования, в ряде случаев — со своими президентскими режимами. Однако и Украина столкнулась с аналогичным процессом в Крыму, где развивались те же процессы, что и в российских республиках (сепаратизм, формирование региональных кланов, стихийный поиск механизмов централизованного контроля и, наоборот, обеспечения региональных свобод).
Серьезные расхождения в региональных процессах начинаются с 1993 г. В российских регионах за все годы ельцинского правления постепенно идет процесс укрепления исполнительной власти (губернаторов) и перехода к выборности региональных руководителей. Уже весной 1993 г. проходят первые губернаторские выборы в нескольких областях. Осенью 1993 г. центральная власть разгоняет советы, после чего в регионах резко усиливается тенденция к формированию моноцентрического режима власти во главе с губернаторами.
В Украине, напротив, происходит кратковременный сдвиг в сторону законодательной ветви власти. Созданный Л.Кравчуком политический режим оказывается неустойчивым, назначенные им представители президента — в целом довольно слабыми лидерами. В результате в 1994 г. одновременно с очередными президентскими и парламентскими выборами в регионах проходят всенародные выборы председателей областных рад, которые становятся легитимными руководителями регионов. Отчасти воссоздается политическая ситуация 1990-91 гг. (облсовет как главный центр власти с подконтрольным ему облисполкомом), причем председатель областного совета избирается населением и становится легитимным региональным лидером.
Таким образом, Украина раньше России начинает процесс перехода к повсеместной выборности региональных руководителей (в России в 1992 г. выборы губернаторов отложили на неопределенный срок, мотивировав это «опасностью» прихода к власти «противников реформ»). Однако причиной тому были не осознанная государственная политика, а несовершенство законодательства и слабость киевских властей, в результате чего центр при Л.Кравчуке просто не мог воспрепятствовать региональным выборам и фактически упустил региональный политический процесс.
Поэтому новая власть, установившаяся в 1994 г. и олицетворяемая не идеологами, а управленцами, делает ставку на свертывание «региональной вольницы». С 1995 г. Л.Кучма восстанавливает жесткую властную вертикаль, вводя должность главы областной государственной администрации. Идя на столь резкий шаг, он поначалу стремится избежать столкновения с влиятельными региональными группами — назначает главами администраций всенародно избранных председателей областных советов, оставляя за ними прежние должности, дает губернаторские посты в некоторых западных представителям Народного Руха, а в Луганской области — коммунисту. На районном уровне действуют районные государственные администрации. Таким образом, формируется вертикаль исполнительной власти «центр — области — районы».
Постепенно Киев берет инициативу в свои руки, и вообще при Л.Кучме роль Киева в украинской политике существенно возрастает (на фоне провинциализации центров некогда бурной политической активности — Львова, Донецка, Харькова). Показательным явлением становится бесконечная кадровая чехарда, за пять лет в некоторых областях губернаторы меняются по несколько раз (например, в Винницкой, Днепропетровской, Херсонской областях). Киев начинает уверенно тасовать региональные кадры, играя на противоречиях между региональными элитными группами. Интересно отметить, что из избранных в 1995 г. председателей областных рад до 1999 г. в качестве регионального руководителя «дожил» только один губернатор — руководитель Волынской области Б.Климчук, прочие давно уже уволены. Кроме того, Л.Кучма эффектно решает «крымскую проблему», играя с местными кланами и вытесняя некомпетентную «русскую партию», которая, казалось, прорвалась к власти в 1994 г.
Другое отличие в региональном политическом процессе заключается в том, что законодательные органы власти — трансформированные советы не испытывали такого прессинга со стороны исполнительной власти, в Украине не было роспуска советов, как в России в 1993 г. Выборы областных и районных рад проходили в срок — в 1994 и 1998 гг. и без российских катаклизмов. Поэтому рады во многом сохранили свою политическую роль.
Также Украина раньше России перешла к повсеместной выборности муниципальных руководителей. Уже в 1994 г. в Украине прошли выборы глав местного самоуправления в городах, в 1998 г. состоялись уже повторные выборы. Мэр украинского города достаточно рано становится сильной фигурой, легитимность которой в отличие от губернатора определяется всенародными выборами. В России процесс выборов глав местного самоуправления начался с запозданием и поначалу шел очень медленно. Но в России выборным в большинстве регионов стал пост главы районной администрации, тогда как в Украине избираются только городские головы.
Во второй половине 1990-х гг. в России медленно, но верно происходит укрепление позиций региональных элит, чему способствует моноцентризм региональных режимов власти: губернаторы все увереннее контролируют ситуацию, а новые органы законодательной власти не в состоянии с ними конкурировать. Постепенно решается вопрос о выборности губернаторов, к началу 1997 г. почти всеми регионами управляют всенародно избранные губернаторы. Россия, заявившая себя федеративным государством, вынуждена решать проблему статусного неравенства субъектов федерации через расширение «коридора возможностей» губернаторов, а не ограничение республик. Поэтому она переходит к повсеместной выборности региональных лидеров и формирует Совет Федерации — верхнюю палату парламента из руководителей исполнительной и законодательной власти субъектов федерации.
В результате в 1996-98 гг. тенденции регионального развития России и Украины находятся в антифазе: в Украине укрепляется Киев, в России — регионы. Причем на региональном уровне в России сохраняется моноцентризм с явным доминированием исполнительной власти. В Украине вопрос о власти в регионах, несмотря на унитаристскую политику центра, остается нерешенным: с контролируемыми центром губернаторами небезуспешно конкурируют областные рады с их амбициозными председателями и выборные городские головы (новые выборы тех и других прошли в 1998 г.). Таким образом, Россия получает стабильность на уровне отдельно взятых регионов, но нестабильную властную вертикаль. В Украине, наоборот, формируется жесткая вертикаль исполнительной власти, губернаторы подконтрольны, но единой «партии власти» в отдельно взятом регионе не существует.
Однако анализ современной ситуации показывает, что при всех институциональных и политико-исторических различиях в России и Украине действует близкий политический механизм отношений «центр — регионы» и функционирования региональных политических режимов. Сходства в принципах построения политических отношений между центром и регионами определяются несколькими общими чертами российской и украинской политики.
Во-первых, это — первостепенная важность нерегламентированных отношений между центральными и региональными элитами, свойственная для постсоветского периода. Реальные отношения между центральными и региональными элитами формируются вне правовых рамок и строятся на принципах бюрократического консенсуса, общих интересов в дележе ресурсов и в исходе выборов. Эта принципиальная схема предопределяет формирование вертикальных элитных групп (с центральными и региональными компонентами), проецирование клановых интересов центра на региональный уровень и влияние региональных кланов на центральную политику. И она успешно действует в обоих государствах.
Во-вторых, политико-экономические реалии кланового государственно-бюрократического капитализма, который создан в России и Украине, определяют главное содержание политических отношений, в т.ч. и по линии «центр — регионы». Это — перераспределение собственности под контролем политических кланов.
В-третьих, региональные элиты России и Украины имеют идентичное происхождение и ментальность. Все они произрастают из позднесоветского режима, представляют бывшую советскую номенклатуру. Это означает, что главной своей политической задачей они считают «контроль за ситуацией», означающий вмешательство во все сферы общественной жизни и прежде всего в экономику. Сохраняется и такая характерная черта кадровой политики, как местничество.
Сейчас среди региональных лидеров в обеих странах мало представителей идеологизированных партийных групп. В России их больше, поскольку здесь прошли губернаторские выборы, через которые к власти в ряде регионов прорвались представители левых сил. Кроме того, в России у власти осталось больше представителей первого эшелона советской элиты — бывших первых секретарей обкомов (рескомов) КПСС и председателей облисполкомов. В Украине эти люди оказались не у дел, уже Л.Кравчук делал ставку скорее на второй эшелон региональной бюрократии, который получил возможность удовлетворить свои властные амбиции и финансовые аппетиты при новой власти. Кроме того, на первом этапе в некоторых украинских регионах к власти приходили представители национального движения. По мере перевыборов и кадровых чисток первый эшелон советской элиты потерял власть во всех регионах Украины.
Но средний тип российского и украинского губернатора или мэра очень похож. Это — т.н. «аполитичные хозяйственники» с образцовой советской биографией, т.е. в постсоветских реалиях — арбитры и контролеры в процессах перераспределения ресурсов на региональном уровне.
Наконец, сближающим фактором являются особенности региональной структуры двух стран. Россия и Украина — крупные полицентрические государства. В них имеет место феномен экономических сильных регионов, которые сохраняют свой интерес при любой, самой жесткой властной вертикали. В их составе есть автономии. В России их сеть особенно развита, но и в Украине наличие одного только Крыма заставляет государство проводить более гибкую региональную политику.
Таким образом, при всех различиях государственного устройства в России и Украине складываются общие предпосылки регионального развития, объясняемые спецификой постсоветской политической культуры, государственно-бюрократического капитализма и др. При Л.Кравчуке государственная политика еще в значительной степени строилась на национальном романтизме, да и при «раннем Ельцине» был значим идеологический фактор. Во второй половине 1990-х гг. обе страны делают ставку на элитный консенсус, в т.ч. по линии «центр — регионы». И фактически Украина при Л.Кучме начинает проходить тот же путь, что и Россия при Б.Ельцине — постепенное ослабление контроля за регионами и введение региональных элит в контекст центральной политики. Полезно напомнить, что о губернаторском «самовластии» в России заговорили еще в те времена, когда губернаторы назначались президентом и, казалось, должны были послушно выполнять волю центра. Но адекватного правового механизма контроля не было и в те времена, как нет его в унитарном Украинском государстве.
Укрепление региональных бюрократий является неотъемлемой частью постсоветских политических реалий и России, и Украины. Региональные бюрократии небезуспешно стремятся сконцентрировать в своих руках экономические и информационные ресурсы, чему благоприятствуют номенклатурный сценарий приватизации и финансовая зависимость СМИ. В результате они получают рычаги влияния на центр. В ходе двух ключевых процессов центральная и региональная бюрократия становятся равноправными партнерами. Во-первых, это — выборы, которые проходят под контролем региональных властей, выступающих в роли «держателей электората». И здесь уже центр должен идти на уступки, чтобы сделать поддержку региональных элит реальной и эффективной. Во-вторых, это — приватизационный процесс, в котором принимают заинтересованное участие группы центральной и региональной элиты, и где центр не может не считаться с ситуацией, когда местные чиновники уже контролируют собственность.
В обеих странах формируются вертикальные элитные группы. В России роль их «политического авангарда» играют НДР, «Отечество», «Вся Россия», «Единство». Каждая из этих групп обладает ресурсами и лидерами в центре и на местах. «Угасающая партия власти» в лице НДР опирается на «Газпром», личные связи В.Черномырдина и довольно большую группу губернаторов (Вологодская, Новгородская, Саратовская, Сахалинская, Томская области и др.). Группа московского мэра Ю.Лужкова, институциализировавшаяся в виде «Отечества», привлекает руководителей Московской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ярославской областей, Карелии, Удмуртии и др. «Вся Россия» создается как горизонтальное объединение региональных лидеров во главе с руководителями Санкт-Петербурга и Татарстана (с участием руководителей Башкирии, Ингушетии, Хабаровского края, Астраханской, Иркутской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского АО и др.), но имеет значимую федеральную компоненту, в частности в виде поддержки «Лукойла». Новый проект «партии власти» под названием «Единство» реализуется премьер-министром В.Путиным и администрацией президента с привлечением губернаторов Калининградской, Курской, Тверской областей, Приморского края и др. И вообще практически все крупные финансовые группы пытаются осуществлять контроль за территориями, входящими в их «сферу влияния», работая с местными чиновниками и деловыми кругами.
Аналогичным образом формирование «партий власти» происходит в Украине. НДП, сегодня представляющая собой клиентелу премьера В.Пустовойтенко, опирается на губернаторов Житомирской, Луганской, Харьковской областей, премьер-министра Крыма. СДПУ (о), представляющая собой «политическое крыло» киевской финансовой группы Г.Суркиса, практически полностью контролирует власть в Закарпатье, внедряется в другие администрации, в частности в Черновицкой области. АПУ утратила свою значимость на общеукраинском уровне, но принадлежность к ней сохраняют руководители Львовской, Ровенской областей. То, что каждый губернатор тяготеет к одному из политико-экономических кланов, было заметно на этапе избирательной кампании по уровню поддержки, который оказывался в регионе каждому из нескольких президентских штабов, представлявших различные олигархические группы.
К тому же все ведущие украинские олигархи являются депутатами от регионов, а значит, региональными лоббистами: А.Волков избран от Черниговщины, В.Пинчук — от Днепропетровской области, Г.Суркис и В.Медведчук — от Закарпатья, А.Деркач — от Сумской области, Ю.Тимошенко и А.Антоньева — от Кировоградской. И.Бакай избирался депутатом от Киевской области. Здесь в качестве сравнения можно отметить, что в России олигархи в большинстве своем в депутаты не стремились, поскольку это означало уход с «основной работы», и не считали необходимым играть роль региональных лоббистов. Но в нестабильной предвыборной ситуации некоторые из них уже пытаются ее освоить: Б.Березовский баллотируется в Госдуму от Карачаево-Черкесии, Р.Абрамович от Чукотского АО, В.Черномырдин от Ямала и др.
В результате и Россия, и Украина делятся на «сферы влияния» политико-экономических групп, взаимодействие которых составляет важнейший контекст региональной политики.
Важным принципом функционирования системы становится налаженная циркуляция элиты по вертикали. Представители регионов, в т.ч. губернаторы получают посты в центре, чиновники из центра назначаются или избираются местными руководителями. Привлечение влиятельных фигур из регионов практикуется в обеих странах. В случае с Украиной достаточно назвать одного из самых влиятельных правительственных чиновников А.Кинаха, бывшего губернатора Николаевской области и добавить вице-премьера по вопросам АПК М.Гладия, руководившего Львовщиной. В России губернаторы с их более широкими полномочиями как правило негативно относятся к перспективе перехода на работу в центр (единственным и неудачным примером за последние годы было назначение вице-премьером нижегородского губернатора Б.Немцова), но с удовольствием делегируют в Москву своих людей.
Отмечается высокая степень влияния региональных кланов на политику центре. Особенно заметно оно в Украине, где, как уже отмечалось, практически невозможно отделить столичную элиту от региональной. Региональные кланы играют здесь особую роль из-за компактности страны и развитых традиций местничества. Особенно часто говорят о доминировании днепропетровского клана, амбиции которого известны со времен Л.Брежнева и В.Щербицкого. С Днепропетровском считался Л.Кравчук, назначивший премьер-министром бывшего руководителя «Южмаша» Л.Кучму. Сам Л.Кучма, придя к власти, формировал правительство во главе с постсоветским руководителем Днепропетровской области П.Лазаренко, а затем — бывшим председателем Днепропетровского горисполкома В.Пустовойтенко. Существенное влияние на политику государства оказывал и традиционно конкурирующий с днепропетровским донецкий клан, видный представитель которого Е.Звягильский работал премьер-министром при Л.Кравчуке. Значимым было политическое влияние Харькова, особенно в тот период, когда президентскую администрацию возглавлял бывший мэр города Е.Кушнарев (а перед президентскими выборами вице-премьером стал харьковчанин В.Семиноженко).
В России различия между столицей и регионами заметно глубже, и, попав в Москву, представители регионов часто «забывают» о своих корнях. Но и здесь прослеживается принцип формирования центральной элиты по региональному признаку. При «раннем Ельцине» выделялся свердловский клан, который представляли Г.Бурбулис, Ю.Петров, В.Илюшин и О.Лобов. Одно время активную роль в правительстве играли нижегородцы — премьер С.Кириенко, вице-премьер Б.Немцов и др. Другой мощной «кузницей кадров» служит Санкт-Петербург, давший стране двух премьеров — С.Степашина и В.Путина. Рост влияния Санкт-Петербурга вновь стал заметным в 1999 г.: губернатор В.Яковлев возглавляет наиболее мощное движение региональных лидеров «Вся Россия», премьер-министр В.Путин является одним из главных кандидатов в президенты, а А.Чубайс сохраняет контроль над одной из главных естественных монополий РАО «ЕЭС России».
Хотя формирование центральной элиты по принципу землячества и, соответственно, выделение «привилегированных» регионов не являются доминирующими в российской политике. Это характерно для начального периода правления любого политика, который стремится опереться на «проверенных» людей из своего региона. От этого принципа давно отказался Б.Ельцин. Вероятен отход от этого принципа и на втором сроке правления Л.Кучмы.
Характерной особенностью государственного строительства в России и Украине стала асимметрия регионального развития, когда одни регионы имеют больше прав и полномочий, чем другие. Такая ситуация является свидетельством невозможности (и нежелания) центральной элиты строить однотипные отношения со всеми своими субъектами. Применяя дифференцированный подход к регионам, центральная элита сохраняет больший коридор возможностей для манипулирования регионами в рамках переговорных процессов.
В результате формально в России все субъекты федерации по конституции обладают одинаковым статусом, а Украина просто является унитарным государством. На самом деле в России очевидны статусные различия между республиками и областями, известен правовой нонсенс с автономными округами. Более того, на этапе 1996-98 гг. центр делал ставку на формирование индивидуальных отношений с субъектами федерации через разграничение специальных договоров о разграничении полномочий (договора заключили 46 регионов). В Украине асимметрия не столь очевидна, ярким примером служит только Крым со своей конституцией и особым политическим режимом. Однако на уровне реальных отношений между элитными группами возможности одних регионов существенно отличаются от других — работают никак не регламентированные клановые принципы, экономические интересы, личные связи. Поэтому все равно отношения строятся на принципах бюрократического консенсуса, конкретных договоренностях между лидерами центральных и региональных элитных групп, особом неформальном статусе регионов и их лидеров. И поэтому в обеих странах складывается неформальное деление на регионы «привилегированные», «автономные» и «периферийные».
Сближает наши страны и удивительная идентичность внутриэлитных, институциональных конфликтов на региональном уровне. Базовые конфликты, «встроенные» в региональные политические системы, а именно, конфликт между исполнительной властью и местным самоуправлением и конфликт между ветвями власти, воспроизводятся в России и Украине почти один к одному, что легко объясняется генезисом современных региональных режимов в обеих странах. Исполнительная власть выросла из отделившегося от областного совета и многократно усилившегося облисполкома (в России она стала выборной), законодательная — из областного совета (в Украине он сохранил прежнее название и основную часть полномочий), а местное самоуправление — из городских советов и горисполкомов (его главы стали выборными и в России, и в Украине). Содержание конфликта, как и везде, составляет борьба за ресурсы, финансовые и информационные.
Более раннее введение повсеместной выборности мэров городов сыграло важную роль в становлении местного самоуправления в Украине. В России не было «единовременных» выборов глав местного самоуправления, и проводились эти выборы как правило не раньше губернаторских. Украина пережила целый период, начиная с 1995 г., когда всенародно избранные мэры сосуществуют с назначенными губернаторами. Результатом стало возникновение феномена «сильных мэров», которые по своему влиянию не уступали губернаторам. Ярчайшим примером конфликта стала борьба одесского губернатора Р.Боделана с мэром Э.Гурвицем, за каждым из которых стояли мощные бизнес-группировки. Интересен и ее результат: в конце концов, губернатор выиграл выборы и сел в кресло мэра, а пост главы областной администрации достался человеку из его команды. На украинской политической сцене выделяются руководители Черкасс (баллотировался в президенты, но снял свою кандидатуру), Донецка (лидер Партии регионального возрождения Украины), Львова, Кировограда, Хмельницкого, Полтавы и др.
В России конфликты такого рода начались позже, хотя их сила оказалась не меньшей, если взять ситуацию в Приморском крае, Новосибирской, Омской, Свердловской областях. Конфликт омского губернатора Л.Полежаева и мэра В.Рощупкина по силе своей и содержательно мало отличается от конфликта Р.Боделана и Э.Гурвица. Мэры пытаются объединить свои усилия, выработать общую позицию. В обеих странах действуют ассоциации городов, в России есть еще и разветвленная сеть региональных городских ассоциаций (Юг России, Поволжье, Сибирь и Дальний Восток и др.). На определенном этапе федеральный центр использовал местное самоуправление как рычаг давления на губернаторов, искусственно поднимая статус мэров в ущерб всенародно избранным и «зарвавшимся» губернаторам: был создан Совет по местному самоуправлению при президенте, затем — Конгресс муниципальных властей. Наконец, 1999 г. ознаменовался созданием общественно-политического движения «Союз российских городов» на базе Ассоциации российских городов и во главе с ее лидером В.Рощупкиным. В Украине процесс политической самоорганизации мэров еще не зашел так далеко, однако имеются те же предпосылки: создана Ассоциация городов Украины, влияние выборных мэров в отдельных регионах весьма велико, среди них много амбициозных лидеров, в т.ч. молодых представителей бизнес-элиты (которых, кстати, до сих пор очень мало в российской региональной власти). Как правило, мэр областного центра и в России, и в Украине является достаточно самостоятельной фигурой со своими интересами, амбициями и ресурсами.
Другим альтернативным центром власти в регионах являются законодательные собрания. Типично постсоветский конфликт ветвей власти — явление известное и многократно описанное. В современной Украине он развит гораздо сильнее, чем в России, что имеет свои объяснения. Россия ушла дальше от Украины в процессе формирования моноцентрического режима с абсолютным доминированием исполнительной власти. Выборы легислатур здесь проходили под жестким контролем губернаторов, и результаты оказались соответствующими (тем более в республиках). Поэтому мало где в России региональные законодательные собрания самостоятельны и тем более конфликтуют с губернаторами. Хотя роль спикеров в России не следует недооценивать: они имеют такое же право голоса в Совете Федерации, как и губернаторы.
В Украине отмечается более серьезная роль региональных легислатур, которые в ряде областей обладают мощными ресурсами — сильными лидерами, развитым аппаратом, активной позицией, СМИ и, что особенно важно, контролем за собственностью, которую в условиях несовершенного законодательства спокойно переподчиняют себе местные рады на областном и даже районном уровнях. В результате как минимум в половине регионов Украины можно говорить об областных радах как о сильных и самостоятельных центрах власти с признанными лидерами во главе (Луганская, Николаевская, Херсонская, Черниговская области служат наиболее яркими примерами). Крым же по сути представляет собой парламентскую республику, российским аналогом которой можно считать Удмуртию. Не случайно председатель Верховной Рады А.Ткаченко пытался в преддверии парламентских выборов сформировать параллельную «вертикаль» законодательной власти — в России явление немыслимое: трудно представить себе председателя Госдумы Г.Селезнева, собирающего сплоченную группу спикеров законодательных собраний.
Во многих регионах как России, так и Украины прослеживается тенденция к формированию консолидированной «партии власти» во главе с губернаторами. Здесь уже все зависит не от типа политического режима, а от личных ресурсов региональных лидеров. В России эта тенденция более характерна для республик и южных регионов типа Татарстана или Саратовской области, в Украине — для Запада (например, Ивано-Франковская область). Но и линии противоречий остаются похожими: конфликты губернаторов с мэрами и спикерами, причем более сильные в Украине, где пока еще не до конца выкристаллизовался моноцентризм региональной власти.
Таким образом, под разными институциональными оболочками в России и Украине сформировались похожие принципы отношений «центр — регионы» и похожие региональные режимы. Главным объединяющим принципом является построение политических отношений на основах бюрократического консенсуса и конфликта экономических интересов, влекущего за собой институциональные конфликты. Обратим внимание и на некоторые различия.
Для Украины характерна меньшая стабильность региональных режимов. Она объясняется:
· сохранением принципа назначения глав администраций, в результате чего центр активно пользуется своим правом менять региональных лидеров (кадровая чехарда была обусловлена результатами выборов 1994 г. — всенародными выборами председателей областных рад, сменой президента и его кадровой политикой);
· политическим влиянием альтернативных центров власти — областных рад и мэров городов, что ведет к формированию двух — и трехполюсных ситуаций.
Поэтому ситуация, когда регионом на протяжении многих лет управляет один и тот же человек (как Ю.Спиридонов в Республике Коми, Ю.Горячев в Ульяновской области), или когда такой человек возвращается к власти через выборы (как Е.Строев в Орловской области), для Украины не характерна. В Украине губернатор пока не является главным и единственным центром принятия решений на региональном уровне, с ним небезуспешно конкурируют председатели областных рад и выборные мэры административных центров. Зато характерно четкое деление местной элиты на группы, ориентированные на губернаторов, спикеров областных рад, мэров городов и депутатов Верховной Рады, играющих роль местных олигархов, соответственно.
Украинский унитаризм влечет за собой слабость горизонтальных связей. Практически все внешние связи регионов ведут непосредственно в Киев. И, напротив, не наблюдается консолидации элит, представляющих соседние регионы с близкими историко-культурными особенностями. Попытки создания горизонтальных структур до сих пор были весьма слабыми. Не получили развития проекты создания партий, создаваемых региональными лидерами, типа Партии регионального возрождения Украины (мэр Донецка В.Рыбак) или Либеральной партии Украины (бывший руководитель Донецкой области, нынешний губернатор Сумской области В.Щербань). Не идет процесс создания межрегиональных ассоциаций (есть только довольно слабые общеукраинские ассоциации городов и областных рад). В России горизонтальные связи развиваются намного интенсивнее, чему способствуют как размеры страны, так и возможности, которыми региональные лидеры обладают при федеративном устройстве государства. Достаточно сказать о роли восьми межрегиональных ассоциаций, которые стремятся превратиться в мощные лобби региональных интересов, признанные на федеральном уровне (не случайно все последние российские премьеры, начиная с С.Кириенко, делали ставку на развитие отношений с межрегиональными ассоциациями, а не отдельными губернаторами). В Украине, административное деление которой не является столь дробным, пока, похоже, не вызрела потребность в создании межрегиональных объединений.
В заключение необходимо проанализировать современные тенденции развития отношений между центром и регионами в России и Украине. Они, безусловно, определяются особенностями нынешнего электорального цикла. Украина прошла через президентские выборы, причем во время своей президентской кампании Л.Кучма выступил с важными инициативами в сфере региональной политики. Россия готовится к выборам президента, которые приведут к смене лидера. Особенность настоящего момента заключается в том, что ни в России, ни в Украине не приступили к практической реализации внесенных политическими лидерами предложений, поэтому сейчас благодатное время для прогнозов и изучения тенденций.
Предвыборный контекст 1999 г. существенным образом меняет ситуацию в отношениях между центром и регионами в обоих государствах, сближая доминирующие тенденции. Центральные элиты обоих государств в преддверии выборов, исход которых неочевиден, ищут поддержку в кругах региональной элиты и готовы идти на уступки. Региональные элиты в свою очередь добиваются усиления своих возможностей влияния на ход процессов на общегосударственном уровне. В России ситуация усугубляется межгрупповой борьбой в центре, которая проецируется на региональный уровень. Здесь губернаторы ищут свое место в постъельцинском политическом режиме и принимают деятельное участие в формировании политических групп, претендующих на власть, выбирая своими лидерами Е.Примакова, Ю.Лужкова, В.Путина, В.Черномырдина и др. В Украине они «пока» стремятся повысить свой политический статус до российского уровня и стать одной из основ режима, а не зависимой стороной.
Как известно, в ходе предвыборной кампании, выступая в Полтаве, Л.Кучма выдвинул лозунг «Сильный центр через сильные регионы», который не раз уже озвучивался в России. Далее на свет появился Союз руководителей региональных и местных властей, и была подписана Декларация о совершенствовании государственной региональной политики. Украинские власти предполагают провести референдум и создать двухпалатный парламент, в котором верхней палатой станет Совет Регионов, состоящий из представителей местных властей (украинский аналог Совета Федерации). На повестку дня поставлена тема разграничения полномочий между центров и регионами. Не исключается перспектива выборности глав областных администраций.
Таким образом, оставаясь унитарным государством, Украина фактически начинает двигаться по российскому пути. Краткосрочные цели киевских властей понятны — ослабление оппозиционной Верховной Рады и консолидация региональной элиты в рамках единой «партии власти». При этом ясно, что центр не собирается отдавать всю власть регионам. Об этом свидетельствует хотя бы факт моментального увольнения руководителей тех регионов, где Л.Кучма в первом туре получил наименьший процент голосов, — Винницкой, Полтавской, Кировоградской областей.
Долгосрочная тенденция регионального развития Украины, проявившаяся в предвыборный период, свидетельствует о неуклонном росте влияния региональных элит на политический процесс в стране. При Л.Кучме Украина стала превращаться в «нормальное» постсоветское олигархо-бюрократическое государство с тенденцией к укреплению региональных бюрократий. Президентские выборы 1999 г. дали украинской региональной элите уникальный шанс. Теперь практически неизбежным становится включение региональной элиты в политический контекст в качестве самостоятельной и одной из ведущих политических сил. И если не сейчас, то по крайней мере к следующим президентским выборам будет ставиться вопрос о выборности украинских губернаторов.
Статус губернатора становится одним из ключевых вопросов украинской региональной политики. Пока губернатор остается назначаемым, он не уверен в силе своих позиций. В результате, чтобы подстраховаться перед выборами, украинский губернатор может добровольно сложить полномочия и стать председателем областной рады (Сумская, Черниговская области). Еще более очевидным этот процесс был на районном уровне. Конкуренция губернаторов и мэров бывает столь очевидна, что определить, кто имеет большее влияние, порой невозможно. В результате одесский губернатор Р.Боделан в силу обстоятельств, но без потерь для своего политического влияния уходит из губернаторов в мэры Одессы, а днепропетровский мэр Н.Швец, наоборот, соглашается стать губернатором области. Сейчас можно ожидать существенной активизации украинских губернаторов, стремящихся закрепить свои позиции и решить вопрос о власти в регионах в свою пользу. Центр скорее всего не даст им возможности избираться, но в качестве паллиатива пойдет на экономические уступки, что в сущности и требуется.
Пока не ясно, на каком этапе процесс остановится, контролируется ли он центром, как далеко зайдет регионализация Украины, и нужна ли она молодому государству. Ясно, что Украина движется от унитаризма в сторону частичной федерализации, и власти способствуют этому процессу. Причем уже нет значимой политической силы, готовой противопоставить этому идею единой украинской державы и сформировать негативное общественное мнение (как в России ни к чему не привели протесты сторонников «имперской идеи» о «единой и неделимой», выступавшие за «губернизацию»). Народный Рух и другие национальные движения потеряли свое влияние, для избирателей характерен растущий конформизм, общественная жизнь деидеологизируется (это показали парламентские и президентские выборы 1998-99 гг.). Зато есть растущие аппетиты региональных бюрократий, совершенно идентичные как в западных, так и в восточных регионах. Ведь в тех же западных регионах у власти уже давно находятся хозяйственники-прагматики, да и в областных радах партийное представительство, как правило, невелико. И есть государство, которое показало, что готово удовлетворить эти аппетиты, в частности отдавая в управление регионам госсобственность.
Развитие России за последние два-три года показало, к чему ведет тот тип отношений, который, как кажется, готова принять Украина. Он не угрожает государству распадом: тема распада Украины после президентских выборов стала неактуальной: очевидно сглаживание ранее вопиющих электоральных различий между регионами Украины[2], рост конформизма — 1998-99 гг. в этом отношении стали переломными. Зато он означает бесконечный процесс перераспределения ресурсов в двух плоскостях — между центром и регионами и между финансовыми группами всех уровней. Таким образом, и у центра, и у регионов формируется общий интерес к взаимодействию, за счет которого, кстати, удалось сохранить территориальную целостность России. Внешняя лояльность Совета Федерации (Совета Регионов) центру и единство «партии власти» обеспечиваются, но являются условными и определяются способностью центральных властей сохранять у региональных элит интерес к сотрудничеству. В российском случае центр постоянно предлагал регионам договора о разграничении полномочий, положительные решения по конкретным экономическим проектам, дотации и обменивал уступки на лояльность, в частности во время выборов. А ближе к следующим выборам, как сейчас в России, все равно происходит распад региональной элиты на враждующие группировки, ориентированные на тех или иных кандидатов в президенты.
Поэтому квазифедеративная модель, основанная на балансе сил между центром и губернаторами, не является устойчивой, ее постоянное воспроизводство требует усилий, инициативы со стороны центральных властей. Но в то же время она не ведет к формированию мощного «горизонтального» объединения губернаторов в силу слишком разных экономических интересов различных регионов и типичного губернаторского эгоизма.
Если Украина пойдет по этому пути, то ей придется создавать иные механизмы политического контроля помимо возможности увольнять неугодных губернаторов. В этом случае необходима модель сдержек и противовесов, ограничивающая возможности губернаторов, другими словами — модель «разделяй и властвуй» применительно к региональной элите. А для этого можно использовать мэров крупных городов (российский случай) или законодательные собрания, пока еще сильные в Украине. Во всяком случае, отдавать всю реальную власть губернаторам было бы слишком опасным. Зато игра на противоречиях между группами региональных элит может стать важным элементом украинской политики.
Способ формирования Совета Регионов должен быть максимально выгодным центру. Принятие решений российским Советом Федерации осуществляется во многом за счет того, что решение поддерживает большинство губернаторов, а спикеры законодательных собраний голосуют, как губернаторы. В Украине отсутствует корпоративное единство губернаторов, мэров и спикеров, а значит, Совет Регионов может оказаться неспособен принять вообще какое-либо решение. Для центра это может быть даже полезным: российский опыт показал, что на федеральном уровне региональная элита не в состоянии изменить тенденции государственного развития в силу своей имманентной раздробленности.
Тем временем Россия, пройдя через этапы «дикой суверенизации» и «губернаторской вольницы», ищет более эффективную модель государственного строительства. В предвыборный период стало сложно говорить о региональной политике — ее нет, поскольку не решен вопрос о власти. Вместо этого существует набор подходов, позволяющих преодолеть центробежные тенденции. И не случайно Е.Примаков предложил вернуться к назначению губернаторов. Начиная с 1997 г., основные усилия центра были направлены на то, чтобы каким-то образом ограничить политические возможности выборных губернаторов. В качестве противовеса использовали мэров, представителей президента, судебные органы, тема восстановления властной вертикали стала доминирующей в выступлениях многих представителей центра, и выступления за отмену выборности губернаторов стали звучать еще до Е.Примакова (например, из уст О.Сысуева, когда тот являлся первым заместителем руководителя президентской администрации). Как компромиссный вариант предлагается избрание губернатора законодательным собранием по предложению президента, что хотя бы вяжется с федерализмом, поскольку вариант с назначением выглядит явным рецидивом унитаризма и воспроизводит ситуацию 1992 г. (республики все равно не откажутся от выборов). Активно обсуждается и тема выборов Совета Федерации: многие губернаторы считают его бесполезным органом и готовы отказаться от ежемесячных поездок в Москву на утомительные заседания, на которых реально не принимаются никакие государственно важные решения.
Хотя на самом деле ясно, что ни один из российских претендентов на роль создателя новой «партии власти», будь то В.Путин, Е.Примаков или кто-либо другой не решится посягнуть на права регионов и легитимность их руководителей. Отмена губернаторских выборов почти невероятна, хотя бы потому, что никто из реальных претендентов на президентский пост не рискнет поссориться с региональной элитой ради абстрактных лозунгов «единой и неделимой». Поэтому процесс превращения региональной элиты в системообразующий элемент политического режима является необратимым. Вопрос, удастся ли Украине эффективно ограничить политические возможности региональных элит, не допустить всевластия «региональных баронов» на местном уровне и их чрезмерного влияния на общеукраинский процесс. Пока для этого есть все возможности. Не случайно в России уже настойчиво ставится вопрос о регламентации отношений между центром и регионами, означающий укрепление централизованного начала и властной вертикали. Поэтому и России, и Украине придется решать общие проблемы:
· создание стандартной модели разграничения полномочий между центром и регионами;
· соответствие регионального законодательства федеральному;
· санкции за неконституционную деятельность региональных лидеров, в т.ч. механизм отстранения от должности всенародно избранного руководителя (в украинском случае — мэра);
· эффективное распределение собственности между государственным, региональным и муниципальным уровнями.
В результате получается, что если Украина дает региональной элите шанс принять участие в формировании политического режима и расширяет коридор ее возможностей, то Россия, пройдя через этот этап, уже ищет возможности укрепления властной вертикали и решения перечисленных выше «больных» вопросов. Тем самым обе страны движутся к оптимуму в балансе сил между центром и регионами: Россия укрепляет централизованное начало и показывает, что федерализм не означает вседозволенность, Украина дает регионам дозированную свободу и пока еще имеет шанс избежать российских крайностей. Следует заметить, что похожие процессы происходят в других крупных постсоветских государствах, в частности в Казахстане и даже в авторитарном Узбекистане: везде фактор региональной элиты является очень значимым, и стороны ищут приемлемую модель взаимоотношений.
Федерализм и унитаризм — идеально-типические конструкции, и как Россию нельзя назвать классическим федеративным государством, так и Украина не является чисто унитарным государством. Российский федерализм и украинский унитаризм нельзя назвать неотъемлемыми элементами государственной идеи, как скажем, американский федерализм и французский унитаризм, для нынешней элиты это — отвлеченные темы. Государственные институты и правовые модели в специфических постсоветских реалиях выполняют инструментальную функцию: они становятся инструментами в руках элитных групп, использующих их в борьбе за ограниченные ресурсы и влияние. Как например, в России тема местного самоуправления поднималась с целью ограничить влияние губернаторов, и все сводилось к тривиальному разжиганию конфликтов между губернаторами и мэрами крупных городов.
Современные отношения между центром и регионами тесно связаны с реалиями государственно-бюрократического капитализма и исторической инерцией. Поэтому тенденции развития региональной политики и в России, и в Украине определяются необходимостью найти баланс между центробежными факторами — амбициями региональных бюрократий, прежде всего экономически сильных территорий и автономий и императивом сохранения территориальной целостности. Это означает, что результирующие модели региональной политики в ближайшие годы могут оказаться довольно близкими. Их можно определить как модели баланса сил (динамического равновесия) между ведущими группами центральной и региональной элиты.
Литература:
1. Гельман В.Я. Региональная власть в современной России: институты, режимы и практики // Полис, 1998, №1, с. 87-105.
2. Институт губернатора в России: традиции и современные реальности. Под ред. Слепцова Н.С. М., РАГС, 1997.
3. Колосов В.А., Туровский Р.Ф. Осенне-зимние выборы глав исполнительной власти в регионах: сценарии перемен // ПОЛИС, 1997, №1, с. 97-108.
4. Политические процессы в регионах России. Под ред. Туровского Р.Ф. М., Центр политических технологий, 1998.
5. Региональный политический процесс: современная динамика. Доклад Фонда Горбачева. М., 1997.
6. Туровский Р.Ф. Отношения “центр-регионы” в 1997-1998 гг.: между конфликтом и консенсусом // Полития, 1998, №1 (7), с. 5-32.
7. Туровский Р.Ф. Политическая география. М.-Смоленск, Издательство СГУ, 1999.
8. Чиркин В.Е. Современное федеративное государство. М., Издательство МНИМП, 1997.
В работе использованы результаты полевых исследований политических процессов в регионах России и Украины, проведенных с участием автора в 1996-99 гг.
[2] В первом туре президентских выборов 1994 г. разброс голосов за Л.Кравчука составлял от 5.55% в Севастополе до 89.7% в Тернопольской области. На выборах 1999 г. в первом туре минимальный показатель лидера «партии власти» Л.Кучмы составил уже 17.1% (Винницкая область), максимальный — 70.4% (Ивано-Франковская область). Для сравнения на выборах президента России в 1996 г. результат Б.Ельцина в первом туре колебался от 19.3% (Северная Осетия) до 61.2% (Москва).

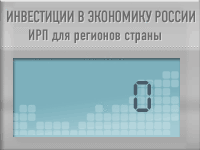
Наш адрес:
- Россия, 105066, Москва,
ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, бизнес-центр «Новь», корпус 20 - e-mail:
- Телефон: (495) 987-3755,
(495) 987-3756,
Факс: (495) 987-3759,
(495) 987-3758 - Схема проезда



 ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ